Верховный Суд в определении № 305-ЭС24-12635 от 12.05.2025 вернулся к вопросу ответственности дочерней компании по долгам материнской. Судом определено, что вместе с конкретными действиями, повлекшими убытки, необходимо устанавливать степень контроля, в том числе по имущественному критерию.
Суть дела
Между истцом и ответчиком-1 заключено генеральное соглашение ISDA 2002 от 30 октября 2017 г., в соответствии с которым стороны заключили и/или намереваются заключить одну или несколько сделок (каждая из которых именуется «сделка».
В соответствии с генеральным соглашением стороны заключили различные типы сделок. В обоснование заявленных требований истец указал, что в результате проведенных сделок и зачета встречных однородных требований (неттинга), у ответчика-1 возникла задолженность перед истцом в размере 24 054 407 долларов США.
15 марта 2022 г. посредством переписки по электронной почте между сотрудниками истца и ответчика-1 со стороны последнего указанная задолженность была подтверждена, но, согласно доводам истца, ответчик отказался от исполнения предъявленного требования, сославшись на блокировку денежных средств ввиду наличия санкционных ограничений в отношении истца.
Истец посчитал, что в результате действий ответчика-1 по блокированию денежных средств ему причинен прямой действительный ущерб в размере 24 054 407 долларов США. 14 июня 2023 г. истец направил в адрес его дочернего общества (ответчик-2) досудебную претензию, в которой указало, что считает его солидарным должником и потребовало оплатить 24 054 407 долларов США.
Дочернее общество отказалось от исполнения предъявленного требования, в частности, указав, что не является стороной генерального соглашения, заключенного истцом с материнской компанией.
Суды, ссылаясь в том числе на положения статей 10, 15, 322, 323, 393, 1064, 1082 ГК РФ, исходили из солидарности обязательств иностранного лица и подконтрольного ему российского общества, наличия причинно–следственной связи между действиями ответчиков и возникшими убытками истца, в связи с чем удовлетворили предъявленные требования.
Свои выводы суды мотивировали тем, что материнская компания опосредованно владеет ответчиком-2, обе компании входят в одну группу лиц, управляются из единого центра, находящегося в США, а также действуют в едином интересе, что, по их мнению, обосновывает солидарную ответственность за причиненный вред.
Позиция Верховного Суда
При отмене судебных актов судебной коллегией отмечается следующее.
Для разрешения спора имела значение проверка доводов ответчиков о том, что в настоящее время у истца имеется возможность вернуть/получить денежные средства, которые не утрачены, а заблокированы при переводе иностранным банком, во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США.
При этом судам при оценке действий (бездействия) спорящих сторон следует исходить из того, что сам по себе механизм разблокирования денежных средств является частью санкционного режима недружественного государства. Данные меры, если они предпринимались (могут быть предприняты) истцом на основании норм иностранного права, должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Поскольку соответствующие вопросы находятся в компетенции Банка России как регулятора, то необходимо поставить на обсуждение сторон вопрос о привлечении Банка России к участию в настоящем деле в порядке статьи 51 АПК РФ.
В случае установления обстоятельств, препятствующих разблокировке причитающихся истцу денежных средств и их фактической утраты по законодательству Российской Федерации, суду следует оценить степень участия каждого из ответчиков в причинении соответствующих убытков, а также квалифицировать правоотношения, на основании которых предъявлены исковые требования к разным ответчикам, принимая во внимание, что объединяя ответчиков по принципу солидаритета, истец требования к материнской компании фактически основывает на неисполнении сделки, а к дочернему обществу – на конструкции внедоговорного деликтного обязательства.
При этом доводы истца о том, что его требования предъявлены к обоим ответчикам за нарушение ими публичного правопорядка Российской Федерации, а не за неисполнение сделки материнской компании, вследствие которой у нее имеется обязательство перед другим обществом, не освобождали его от доказывания критериев нарушения такого публичного правопорядка каждым из ответчиков, которые изложены, в частности, в пункте 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 г. № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража».
В связи с этим, исходя из правовых подходов, изложенных в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 октября 2011 г. № 4872/11, для разрешения дела необходимо установление и оценка судом обстоятельств степени контроля ответчика-1 над дочернем обществом, в том числе и по имущественному критерию (в частности, объем инвестиций материнской компании в дочернюю; размер имущества материнской компании, находящегося в пользовании дочерней компании; наличие и принадлежность поступающих от материнской компании дочернему обществу денежных средств).
При рассмотрении иска суду также следовало поставить на обсуждение сторон правовой вопрос о том, не является ли заявленное истцом требование к дочернему обществу с требованием о применении механизма, предусмотренного статьей 77 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», об обращении взыскания по долгам ответчика-1 на имущество, находящееся у дочерней компании, исходя из того, что правомерные владение и пользование третьими лицами имуществом должника не препятствуют разрешению вопроса об обращении на него взыскания (пункт 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»).
Мнение эксперта
ВС РФ при ответе на вопрос о возможности привлечения к ответственности дочерней компании по долгам материнской занял сдержанную позицию, указав на необходимость исследования обстоятельств в каждом конкретном случае.
Для установления пассивного солидаритета помимо признаков прямого участия в причинении убытков, суд выделил «косвенные», определяющее наличие контроля по имущественному критерию:
- объем инвестиций материнской компании в дочернюю;
- размер имущества материнской компании, находящегося в пользовании дочерней;
- наличие и принадлежность поступающих от материнской компании дочернему обществу денежных средств.
Такой подход соответствует доктрине «обратного прокалывания корпоративной вуали» и природе гражданско-правовой ответственности, требующей установления вины/причинной связи.
При этом, следует отметить, что ВС РФ не автоматизирует ответственность дочерней компании даже при наличии контроля, требуя доказать ее конкретное участие в причинении вреда.
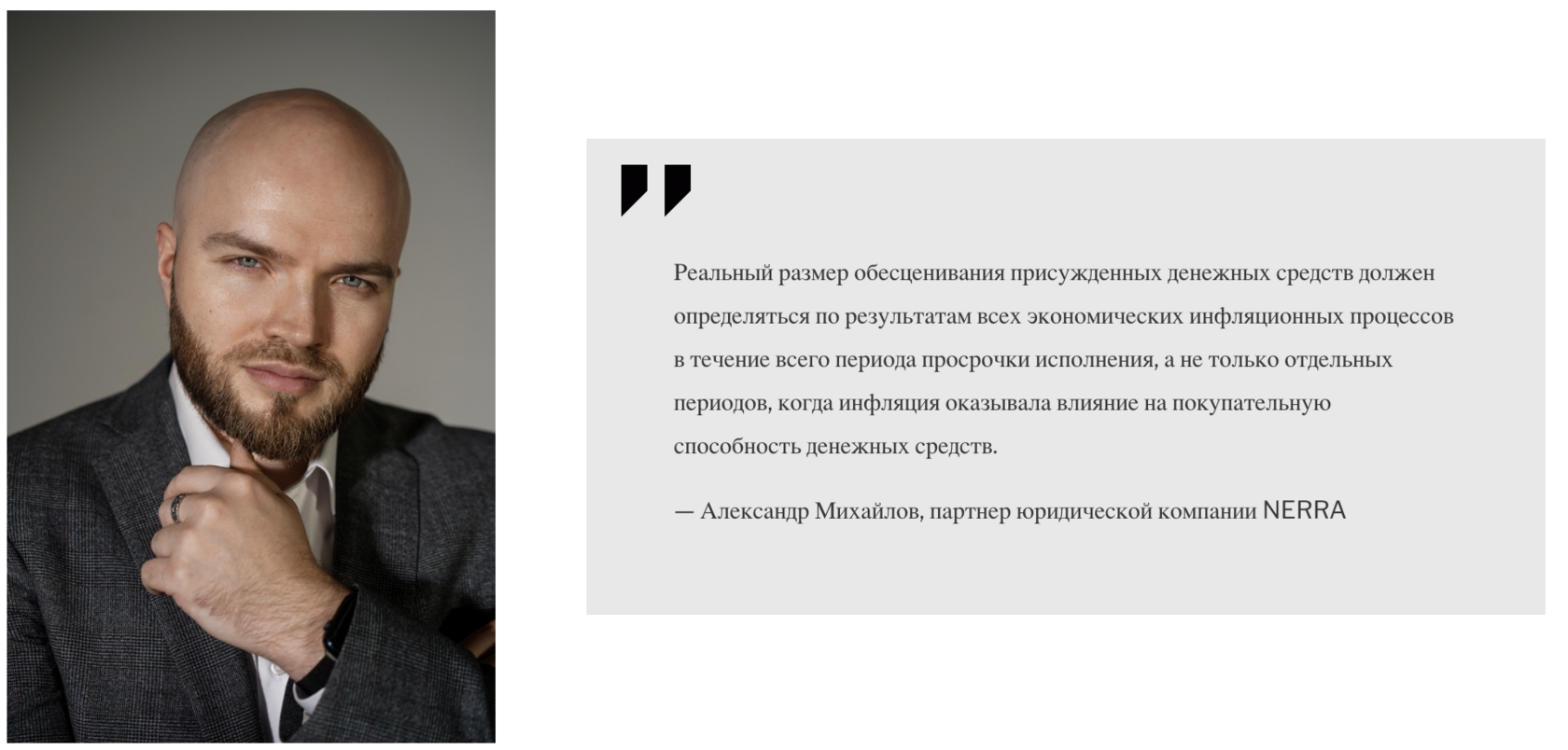
Реальный размер обесценивания присужденных денежных средств должен определяться по результатам всех экономических инфляционных процессов в течение всего периода просрочки исполнения, а не только отдельных периодов, когда инфляция оказывала влияние на покупательную способность денежных средств.
Кроме того, было принято во внимание, что судами не проверен довод о возможности получить денежные средства, заблокированные на счете, используя внесудебную процедуру, предусмотренную законодательством США.
Для разрешения указанного вопроса ВС РФ обратил внимание на необходимость ставить на обсуждение сторон вопрос о привлечении Банка России к участию в деле в случае возникновения в споре вопросов разблокировки денежных средств.
Учитывая тенденцию увеличения числа подобных споров, ожидается, что привлечение Банка России в качестве третьего лица будет происходить чаще, а его позиция станет более значимой для судов.
